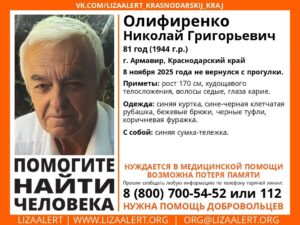Опасные маршруты, горная болезнь, отвесные скалы и трагические смерти — все это скрывает за собой набирающий популярность альпинизм. Кто-то занимается им ради кратковременного бурного интереса, в то время как другие посвящают ему всю свою жизнь. Чтобы узнать подробнее об этом завораживающем и экстремальном виде спорта, «Блокнот» приехал в гости к кандидату в мастера спорта по скалолазанию и альпинизму, руководителю клуба «Стремление» Олегу Афанасьеву.
Олег Афанасьев – значимая фигура в сфере альпинизма не только в Краснодарском крае, но и во всей России. В 2000 году он стал самым молодым покорителем Эвереста, более 90 раз совершал успешный подъем на вершину самой высокой горы Европы – Эльбрус.
Олег Афанасьев до сих пор работает гидом, помогая новичкам увидеть красоту гор, а опытным альпинистам – открыть ее заново.
Видео:
Корреспондент «Блокнота» приехал в гости к Олегу Геннадьевичу на спортивную базу вблизи станицы Убинской. Территория будто создана для подготовки альпинистов, так как рядом находится хоть и небольшая, но живописная гора Собер-Баш.

Олег Афанасьев родился в греческом поселке Ялта на берегу Азовского моря в Донецкой области под городом, который сейчас называется Мариуполь.
— В 15 лет я приехал, как потом оказалось, уже в соседнюю страну — в Армавир. Поступил в юридический техникум и прожил там 15 лет. Потом на рубеже веков переехал в Краснодар, вот так и осел здесь. Лет восемь назад уже уехал из Краснодара в сельскую местность, в Северский район. Теперь здесь живу.
— Расскажите, как вы познакомились с альпинизмом?
— В 17 лет в техникуме я попал сначала в туристический кружок. Я не различал — туризм или альпинизм. Мне просто хотелось попасть в походную жизнь. И потом случайно узнал об альпинистской секции в соседнем институте, стал там заниматься — и задержался на всю жизнь.
— Какой была реакция ваших родителей на выбор увлечения? Пытались ли они отговорить вас от первых серьезных восхождений?
— Родители особенно подробностей не знали. Думали — походы и походы. Я ж не рассказывал, что мы там на отвесных скалах. Поэтому с родителями вообще такого вопроса не было у меня. То есть я в 15 лет, по сути, стал жить самостоятельно. Родители помогали финансово, приезжали в гости. Но я сам уже эти все вопросы решал, поэтому не было таких проблем.
Я рассказывал о своем первом восхождении на Эльбрус. Наверное, они не видели в этом каких-то угроз для моего здоровья и жизни, поэтому спокойно к этому относились.
— Помните ли вы свой первый подъем? Можете рассказать о своих впечатлениях?
— В 1989 году я совершил восхождение в Карачаево-Черкесии. Это была вершина, которая вообще мало что скажет не альпинисту. Потому что на Кавказе очень много вершин. Из них все знают Эльбрус, может быть, кто-то знает Ушбу, Казбек.
Это была вершина Мырды Восточная, у которой первая категория сложности. В альпинизме все вершины делятся на шесть категорий. Единичка — самая простая, и шестерка — самая сложная. Естественно, мы начинаем с самой простой.
Тогда мне до Эвереста было еще 11 лет. Больше всего первое восхождение запомнилось, наверное, внутренними переживаниями. Потому что я решил для себя: если будет страшно, на этом мой опыт альпинистский закончится. Если высота примет меня, то я продолжу.
Было страшно. Но я понял, что все в наших силах. Этот страх можно побороть. Не такой уж он там запредельный. К тому же было очень интересно. Там и снег был, и лед, и скалы. Прям такой вот классический, как в фильмах, альпинизм. Мы 20 дней готовились в альпинистском лагере к этому восхождению.
— Что обычно альпинисты делают в период подготовки к восхождению?
— Они проходят занятия на всех формах горного рельефа. Это скалы, лёд, снег. Это лекции по снаряжению, медицине, немножко по психологии. Учимся переправляться через горные реки. И много практики. Учимся самозадержанию: если человек срывается на снежном или ледовом склоне, с помощью ледоруба он должен остановиться сам. Должен организовать страховку своему товарищу. Вся работа с веревками, с железом технически изучается. Подготовка и методика даются серьезные, чтобы человек мог комфортно пройти это восхождение.
Раньше, в Советском Союзе, была система альпинистских лагерей и система учебного альпинизма. В мире, как правило, такого нет. Я к тому, что альпинизм имел поддержку государственную. Сейчас такого нет. Нравится вам альпинизм? Берите, оплачивайте инструкторов, гидов, проживание, питание, инфраструктуру.
— Можно ли сказать, что сейчас начать заниматься альпинизмом сложнее?
— Финансово сложнее. С другой стороны, сейчас новичок может купить себе любую «снарягу», а в советское время даже если у тебя были деньги, это негде было купить. Поэтому процветал самошив. Ну и в советское время была закрытая страна, то есть люди не могли поехать в Гималаи.
Всего лишь одна советская экспедиция была в советское время в 1962-м году на Эверест, например. Сейчас, если у тебя есть деньги, езжай.
— К слову о деньгах. Эверест, как и любой другой восьмитысячник, это очень и очень дорого. Почему так?
— Потому что дорогое снаряжение. Человеку либо это все надо купить, либо взять в прокате. Инструктору или гиду, который ведет этого человека, тоже надо экипироваться. Но для него это средства производства. Он не развлекается, он работает. Всю эту амортизацию он должен заложить в стоимость. Гид также должен заложить в стоимость свою жизнь или достаток своей семьи, если он станет инвалидом, например.
За две копейки на Эльбрус гиды не поведут клиентов, потому что мы несем уголовную ответственность. Про административную я молчу. Время от времени мы рискуем своим здоровьем, это тоже имеет свою цену.
Плюс инфраструктура, проживание в горах и питание на порядок дороже, чем внизу. Все это вместе складывается в калькуляцию, которая не позволяет сказать, что альпинизм — дешевый вид спорта.
Государство должно строить детские стадионы и оплачивать детских тренеров, которые с детьми в школах работают, да? И беговые дорожки в парках строить. А личное развлечение человека — это его проблема. Пусть идёт, работает больше и заработает, и тогда съездит в Непал или на Эльбрус.
— Сколько в среднем стоит совершить восхождение на Эльбрус вместе с тщательной подготовкой?
— Чтобы сходить на Эльбрус, нужно потратить примерно восемь дней своего времени. Прилететь, например, в Минводы. И от Минвод у вас уйдет 8 дней. В среднем программа, которую вам предложат организаторы, будет стоить, грубо говоря, от 60 до 150 тысяч рублей.
— Это включая все?
— Это включая все, кроме вашего личного снаряжения и одежды. Либо оно есть у вас, либо вы возьмете в прокат.
— Многих титулованных альпинистов коробит от слова «покорил», потому что, как известно, на горы можно только взойти. Как вы относитесь к этому слову?
— Меня тоже коробит, когда люди говорят «покорил». Не знаю, наверное, это рождается из уважения к горам. Что значит «покорил»? Слово «покорить» — это синоним слова «подчинить себе». Мне покорился такой-то рубеж. Это значит, я его победил.
Мы столько раз отступали от вершин. От того же, например, Эльбруса. Много раз была непогода, и много раз нам гора показывает, что покорить ее — нереально. Мы такие там букашки на ее теле. И она стояла там тысячелетиями, миллионами лет до нас. И после нас будет стоять. Поэтому слово «покорить» я не использую. Но уже привык, что многие люди так говорят.
— Сейчас коммерческий альпинизм на пике своей популярности. Не считаете ли вы, что миллиардеры, знаменитости несколько обесценивают труды и годы подготовки профессиональных альпинистов? Есть же случаи, когда шерпы и гиды чуть ли не на спине тащат на вершину и обратно своих подопечных, которые потом будут выкладывать в социальные сети о том, что им пришлось пройти.
— Когда это все начиналось, это очень сильно коробило. Сейчас, да и с годами, ты привыкаешь и понимаешь, как устроен человек. С этим ничего не сделаешь. Надо уже философски относиться к тому, что некоторые люди делают это ради хайпа.
Или другая тенденция — достигаторство. Человек не влюбляется в горы, а просто ставит себе определенную галочку. Вот он взошел на Эльбрус, переплыл Ла-Манш. И больше он к этим темам не возвращается. Может быть, это и неплохо для любителя, который не собирается во всех темах становиться профессионалом. Но мне такой подход к процессу без души не импонирует. Но я уже к этому спокойно отношусь. Люди мы такие. Так мы сделаны.
— До сих пор бытует мнение, что на Эльбрус взойти намного легче, чем кажется. Мол, ратрак довозит альпинистов практически до вершины.
— Да, с юга можно доехать на ратраке до 5100 метров. По высоте останется подняться 500 метров. Но для неподготовленного человека эти метры последние тяжелее в 15 раз, чем если я, например, пойду пешком от Краснодара на Эльбрус. Мне легче будет подняться таким образом на Эльбрус, чем неподготовленному пройти последние несколько сот метров. Потому что нет кислорода, и эти 500 метров очень тяжелые.
Я знаю, что он проделывает над собой такую же душевную работу, как себя уговорить не бросить и не повернуть обратно. Он прорабатывает себя не меньше, чем олимпийский чемпион, который бежит какую-то безумную дистанцию и делает нечеловеческие усилия. И за это я их уважаю. Я их не уважаю за то, что, если они будут делать это просто ради галочки и не понимая, какая красота вокруг.
Какую-то часть своих сил они экономят, конечно, да. Но они еще идут пять часов до вершины. А идти всего лишь 500 метров по высоте. Для любителя это по-любому подвиг. И, конечно, те, кто поднимается без ратрака, потом говорят: «Фу, с чего это вы так поднялись? Это читерство». Да, это читерство, но не стопроцентное.
— Вы следите за какими-нибудь альпинистами? Может, блогерами?
— Конечно. Я когда открываю социальные сети, мне сыпятся одни альпинисты, бегуны и прочие. Я листаю эту ленту и думаю: «Блин, люди туда пошли, сюда пошли, а я тут на ферме прозябаю. Жизнь проходит».
— За столько лет восхождений вы не устали от гор?
— Все-таки у меня не такой плотный график. Например, мои друзья-гиды за лето ходят на Эльбрус, например, 20-30 раз. Я делаю это 7-9 раз. Я хочу, чтобы я успевал соскучиться. Меняю Эльбрус с севера, Эльбрус с юга. Казбек, Непал, Гималаи. Я успеваю соскучиться, чтобы не превращать для себя горы в «станок». Когда группа за группой, ты начинаешь себя ловить на таких мыслях, что опять то же самое. Опять надо ту же лекцию сегодня читать людям про кислородное голодание. Ты ее уже наизусть знаешь. Ничего нового в этом мире не происходит.
И хочется ходить в горы постоянно. Так, чтобы они не превращались в работу. Но в то же время для меня сейчас это работа. Я и ферму завел для этого, чтобы менять род деятельности. Чтобы я немножечко и там, и там был.
— В каком году вы основали свою спортивную базу? Почему решили сделать ее именно в этом месте?
— В 2017 году я взял в аренду эту землю. С местами на самом деле проблема. Найти землю, попробовать ее арендовать или купить. Хотя купить, если деньги есть, это не проблема. Можно из чего-то выбрать. Мне хотелось на природе: в какое-то место, чтобы было живописно, недалеко от города. Чтобы можно было здесь и тренироваться, и пчеловодством попробовать заниматься.
— Расскажите, как изменилась ваша жизнь после основания альпинистского клуба «Стремление»?
— Это стало делом моей жизни. Я к этому довольно-таки серьезно отнесся. Мне было всего лишь 19 лет, когда я основал клуб. Это была молодость, такой драйв был. Всего лишь 2-й разряд у меня по альпинизму был. Мне бы еще самому учиться у кого-то, но не было рядом учителя, поэтому приходилось самому учиться и уже вести за собой других людей.
Я стал лидером клуба, тренировал других. Не было никакого коммерческого альпинизма. Если бы я сейчас был молодым и основал свой клуб, было бы намного легче. Я бы в горах зарабатывал деньги и содержал бы на них клуб. Тогда такого источника дохода не было.
Клуб мне дал много чего интересного. Я всегда хотел сделать клуб такой в мечтах: свое помещение, свои скалодромы, свои автобусы, свои фонды снаряжения. Клубная такая жизнь, где все бурлит.
Оно все бурлило, но только это бурлило сначала на мои деньги, потом на деньги, которые я занимал, а потом все это просело в такую финансовую яму, что до сих пор я пытаюсь рассчитаться с этим. И это многое определило.
Мне горы дали все в моей жизни, все, что у меня есть. И минусы, и плюсы. И хорошую физическую форму, и мир я посмотрел благодаря горам, и семью, и долги. Иногда они у меня забирают здоровье. Я прошел через ампутацию пальцев. В общем, мне горы дали все.
Часто люди думают: а вот если вернуть обратно, что бы ты сделал? Я бы больше занимался бизнесом в молодости и больше бы занимался английским, чтобы больше интегрироваться в мир. А так бы я, наверное, шел бы тем же путем.
— У вас был опыт в журналистской деятельности. Расскажите о нем.
— Да, было у меня время, когда мне казалось, что мне пришла безумно классная идея издавать спортивный журнал. Не было таких, как бы, общих популяризирующих журналов по экстремальным видам спорта. Я сделал журнал, назвал его «Актив». И мы заполнили его всеми такими вот экстремальными и околоэкстремальными видами спорта. Естественно, там был альпинизм, скалолазание, горные лыжи, велосипеды различные, там сплавы, чуть-чуть охоты, чуть-чуть рыбалки, воздушные шары.
Продержался я полгода. Мы выпустили семь номеров. На месяц выпускать один номер журнала тиражом, я уже не помню, где-то две-три тысячи. И я закрылся с результатом минус 2 миллиона. Это было почти 12 лет назад. Он распространялся бесплатно. Все с удовольствием его брали, листали. Совсем немного рекламы в нем было. Поэтому каждый номер — это минус, минус, минус… Продержаться надо было года два, чтобы потом это все стало работать как бизнес-проект.
— Я знаю, что в 2000-м году вы стали самым молодым в СНГ восходителем на Эверест. Удалось ли вам это с первого раза? Сколько лет вы готовились к восхождению?
— Если вы купите миллиона четыре лотерейных билетов, и один из них окажется выигрышный — вот примерно был такой шанс подняться на Эверест, особенно в те времена. Я, зная все это, даже и не мечтал о нем.
Мне было 28 лет. Я был преподавателем в школе. И тут меня приглашают в экспедицию кандидатом. Там нужно было еще пройти отбор. Я смог, и в итоге оказался самым молодым в этой экспедиции. Ее организовал на тот момент начальник юридического института Агафонов Юрий Александрович. Мои старшие друзья под руководством Ивана Аристова отвечали за спортивную часть. Генерал отвечал за деньги, организацию, визы и прочую подобную атрибутику, которая сопутствует альпинизму.
И вот я с какими-то ста долларами, зашитыми в трусы, грубо говоря, лечу в Непал. И попадаю в сказку. На тот момент Эверест был покорен, грубо говоря, 50 лет назад. То есть в 1953 году поднялись впервые на него люди.
Мы поднялись на Эверест, и мы были в числе восходителей в начале второй тысячи человек. Олимпийских чемпионов было в разы больше, чем людей, которые поднялись на Эверест. Да, наверное, до сих пор. У нас это была спортивная команда. Это команда была монстров.
И сам Непал, его столица, магазины с литературой по альпинизму, масса этих магазинчиков. Заходишь, а там картины, репродукции, календари, книги — всё про горы. И ты не знаешь, то ли сувениры купить домой, то ли вот это вот всё богатство.
Мы поднялись 12 из 12 человек. В тот год 24 экспедиции было с севера, и ещё с юга примерно столько же. И наша экспедиция первая поднялась в тот момент на вершину. Ну, естественно, вот эта «магия 2000», все дела. И когда ты в сказке, и сказка ещё так красиво там разворачивается, когда ты сходил на Эверест в 28 лет, ты уже думаешь: «Всё, я космонавт в этой планете».
О частых причинах смерти при восхождении на Эверест, ошибках новичков, восхождении на одну из самых опасных гор К-2 (Чогори) и о том, почему люди при всей опасности продолжают ходить в горы, смотрите в видео.
Вероника Короткова
Видео: Сергей Трубин
Фото: Олег Афанасьев
Подписывайтесь на нас в Телеграм.
Новости на Блoкнoт-Краснодар